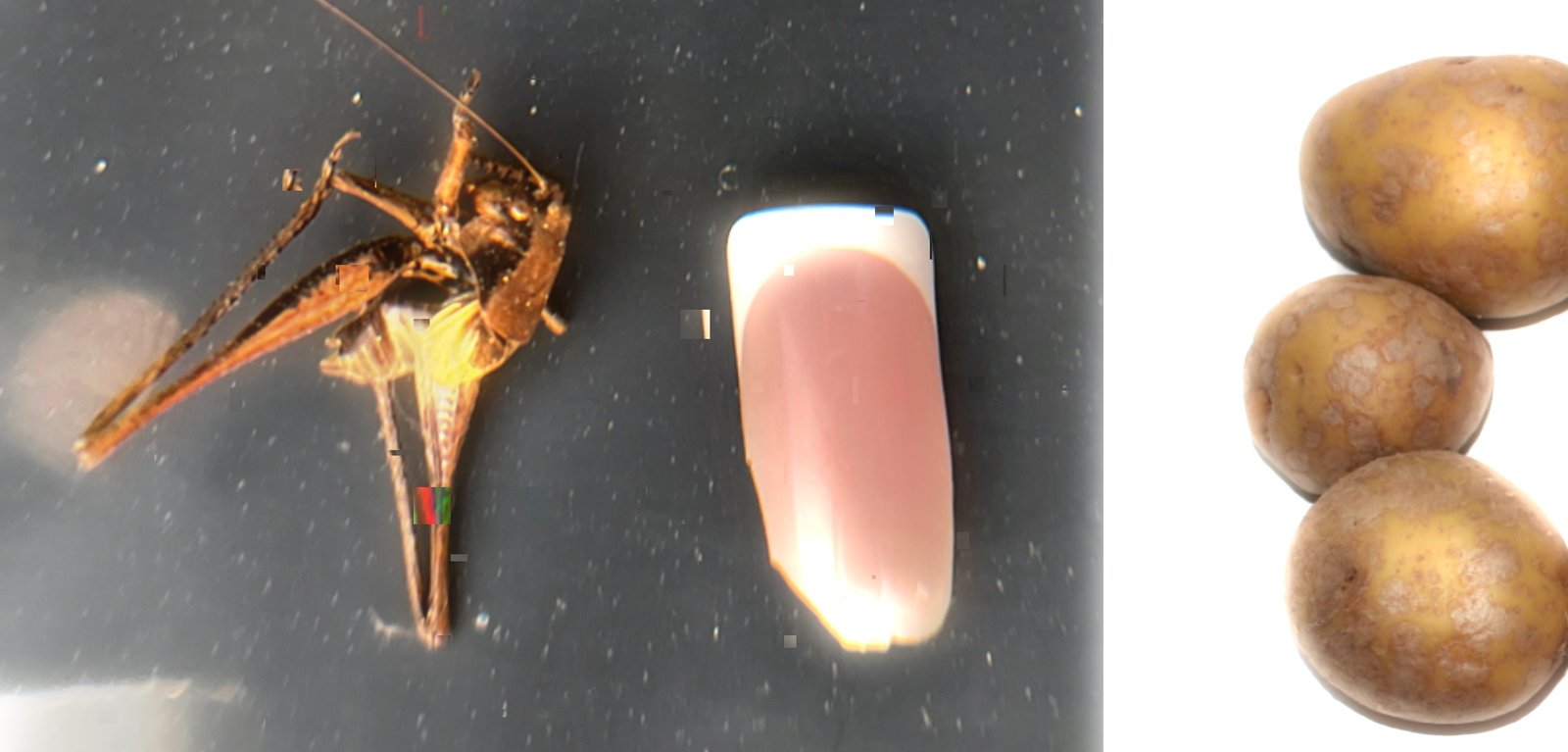«Жить так, как мы жили, было стыдно»: как капитализм направляет наши мечты, формирует сны и меняет тело
об авторке

Варвара Судник — квир-художница и исследовательница из Беларуси. В своих художественных проектах опирается на личный опыт, затрагивая темы условий труда, нестабильности, гендера, квирности, уязвимости и динамик власти.
Художница Варвара Судник рассуждает о том, как гомонормативность, направляемая капитализмом, создает иллюзию безопасности и счастья для квир-людей, однако на деле изолирует их и маргинализирует подлинный опыт.

Мое тело, одежда и прическа выглядят “безопасно” в глазах окружающих. В дни написания этого текста, находясь в эмиграции в Польше, я не боюсь, что окружающие могут мне навредить из-за того, как я выгляжу.
Я думаю о маскировке, покорности тела и понижении громкости голоса при разговоре как о результате долгих лет тренировок, жизни в условиях политической диктатуры, как о результате физических наказаний, направленных на мое тело в детстве, а также опыте религиозности в подростковом возрасте. Иногда я чувствую удовольствие быть послушной в местах, где есть определенные правила. Иногда я чувствую волнение и тревогу, когда люди нарушают правила при мне — я боюсь, что не смогу защитить ни себя, ни других от чужого гнева.
Когда я начала определять себя как квир-человека, у меня появилось больше причин быть наказанной (забираю это слово из детства). Тело должно двигаться по четко заданной траектории.
В некоторых абзацах я буду использовать местоимение “мы”, которое включает в себя меня и мою девушку С. За семь лет наших отношений в бедности, три из которых мы провели в эмиграции, деля поровну те копейки, которые мы получали, разливая суп по одному черпаку и считая количество долек в апельсине, мы находились в постоянной финансовой (и не только) зависимости друг от друга. Эта созависимость и упорное налаживание отношений помогли нам выбраться из отчаяния и страшной тревоги, которую постоянная нужда вызывала.
Мы вместе переживали это положение и мечтали о другой жизни. Говоря об этом опыте, я не могу расклеить нас ни концептуально, учитывая постоянную перекрестную рефлексию, ни физически, когда мы были вынуждены спать на односпальной кровати.
Долгое время мы были окружены людьми, чьей рутине завидовали. Это были молодые гетеро-пары без детей, гетеро-семьи с детьми, которые проводили время в общественных местах, зная, что их образ жизни одобряется. Они возвращались домой, где в холодильнике была еда, в спальне — просторные кровати с удобными матрасами, а в гостиной — ковры и дорогие настольные лампы. Мы стали представлять будущее, в котором наши дети ходили бы в гости к другим детям, нас приглашали бы на семейные ужины, и единственное, что окружающим было бы нужно принять — гендерный состав нашей пары. Тщательно расчесанные волосы, машина с просторным багажником, светлый дом, возможно, антивозрастные процедуры — ради безопасности мы бы скопировали их образ жизни.
Такой визуальный образ, конечно, помогал выстраивать сны, но мне нужно было сфокусироваться: от кого вообще можно было ожидать принятия, будучи мигранткой из Беларуси? Ці павінна я перайсці на беларускую мову і спадзявацца, што мая нацыянальнасць будзе важнейшая за чужую гамафобію, таму маёй ідэнтычнасці “дадуць зніжку”? Ці магу я быць прынятай беларускімі айцішнікамі, якія хваляцца сваімі ліберальнымі поглядамі (да таго часу, пакуль гаворка не заходзіць прыкладна пра ўсе ўразлівыя групы)? Ці трэба зачаравацца заходнімі краінамі і ўбачыць рай на зямлі там, сярод еўрапейцаў, якія выкарыстоўваюць гоманацыяналізм, каб прасоўваць ксенафобію? Але тады такое загадванне было занадта далёкім.

В любом случае, без денег, образования, работы, стабильного жилья, мы были слишком далеки от этого. Жить так, как мы жили, было стыдно. Рассказывая про сложности, было неловко признаваться, что нам нужна буквально коробка гуманитарной помощи: мешок картошки, мыло и зубная паста. Границей, изолирующим фактором, выкопанным рвом между нами и другими стала эмпатия. Кто может ее испытывать? Точно не я. Я чувствовала жажду мести, голодную тошноту, злость, но точно не эмпатию к чужим проблемам. Люди, сопереживавшие нашему шаткому положению, были по другую сторону. Во мне кипела ярость, потому что к сопереживанию не прилагалась реальная помощь. Мы были тренажером: сейчас человек практикует активное слушание, потом подбирает правильные слова, в самом конце добавляет: “Спасибо, что поделились”.
Быть частью сообществ в этот момент казалось невозможным. Мы уплывали все дальше в изоляцию.
Ощущая риск стать бездомными или вероятность не получить работу в эмиграции (то есть нелегальную работу на русском или беларусском языке, без социальных гарантий, где главное правило — работай или проваливай), мы очистили свою речь от упоминания отношений и отрезались друг от друга в публичном пространстве в надежде, что обретем покой хотя бы в стенах нашего дома.
Кусочек жилья, закрывающийся на ключ, и плотные шторы давали ощущение приватности, и этому ощущению хотелось посвящать все свое время.
Я обратилась к быту, потому что внутренняя гомофобия, проросшая из-за постоянного давления на себя, сделала почти невозможной проявления чувств, а быт оставался необходимостью и заботой друг о друге одновременно.
Бытовое болото: мыть посуду и полоскать по кругу, чтобы еда потом не показалась мыльной, перед сном дергать дверную ручку, открывать и снова закрывать замок, чтобы удостовериться, что все плотно закрыто. Нужно успеть убрать всю кухонную поверхность, пока еда стоит в духовке, нужно заказать дезинфекцию и придавить таракана, нужно проверить газ, нужно сделать обход комнат и выключить электроприборы.
Рутина была спасением, проявлением самозаботы и попыткой упорядочить и замедлить беспокойные процессы.
Выбравшись из состояния голода, мы как пара стали чуть больше напоминать ячейку общества. Но только в теории, не выходя за пределы дома.
Та изоляция, в которой мы находились, оставляла возможности только для потребления и дальнейшего зацикливания друг на друге даже в тот момент, когда ресурсов стало немного больше. Деполитизация повседневности поставила нас в цепочку иерархии, где нужно было продолжать себя выхолащивать и терпеливо ждать снисхождения государства, чтобы, может быть, заключить брак.

Для этого нужно было практиковать благодарность и сделать самозаботу самым радикальным политическим актом.
Теперь, выйдя из “мы”, я хочу написать про ощущение раздражения и отчужденности от других квир-людей, которое не давало мне взять на себя ответственность за построение новых связей с людьми.
Осознавая свой (наш) опыт как историю крайней уязвимости, в которой было много стыда и утаивания, я не могла представить возможность солидаризации с другими квир-людьми, которые жили иначе. Будучи в такой же ситуации бедности, они позволяли себе не маскироваться. Сообщества людей, которые поддерживали друг друга в очень тяжелых условиях, будто ставили под сомнение мои попытки выживать. Я переняла капиталистическую логику соперничества и крайней подозрительности, где в итоге я не могла рассчитывать на принятие ни с какой из сторон.
Признать, что гомонормативность не работает и не сработает (как минимум, у меня никогда не будет достаточно денег, чтобы ей полностью поддаться), значило потерять надежду, что мое квир-тело когда-нибудь будет в полной безопасности, и я вынуждена искать новые стратегии выживания, проявлять инициативу и присоединяться к сообществам вокруг.
Представив эмпатию и заботу о себе не как конечные цели, а промежуточные точки, в которых эмпатия может помочь понять чужой опыт, а самозабота пересоберет внутренние ресурсы, мне кажется важным предложить другие форматы взаимодействия, в которых конкретные потребности будут услышаны. Помощь с жильем, готовка еды для других людей, совместная уборка, помощь с сопровождением и переводом в институциях. Делясь своими ресурсами, собираясь вместе, когда все накормлены, можно думать о подрывных практиках, меняющих то, почему мы находимся в таком тяжелом положении.