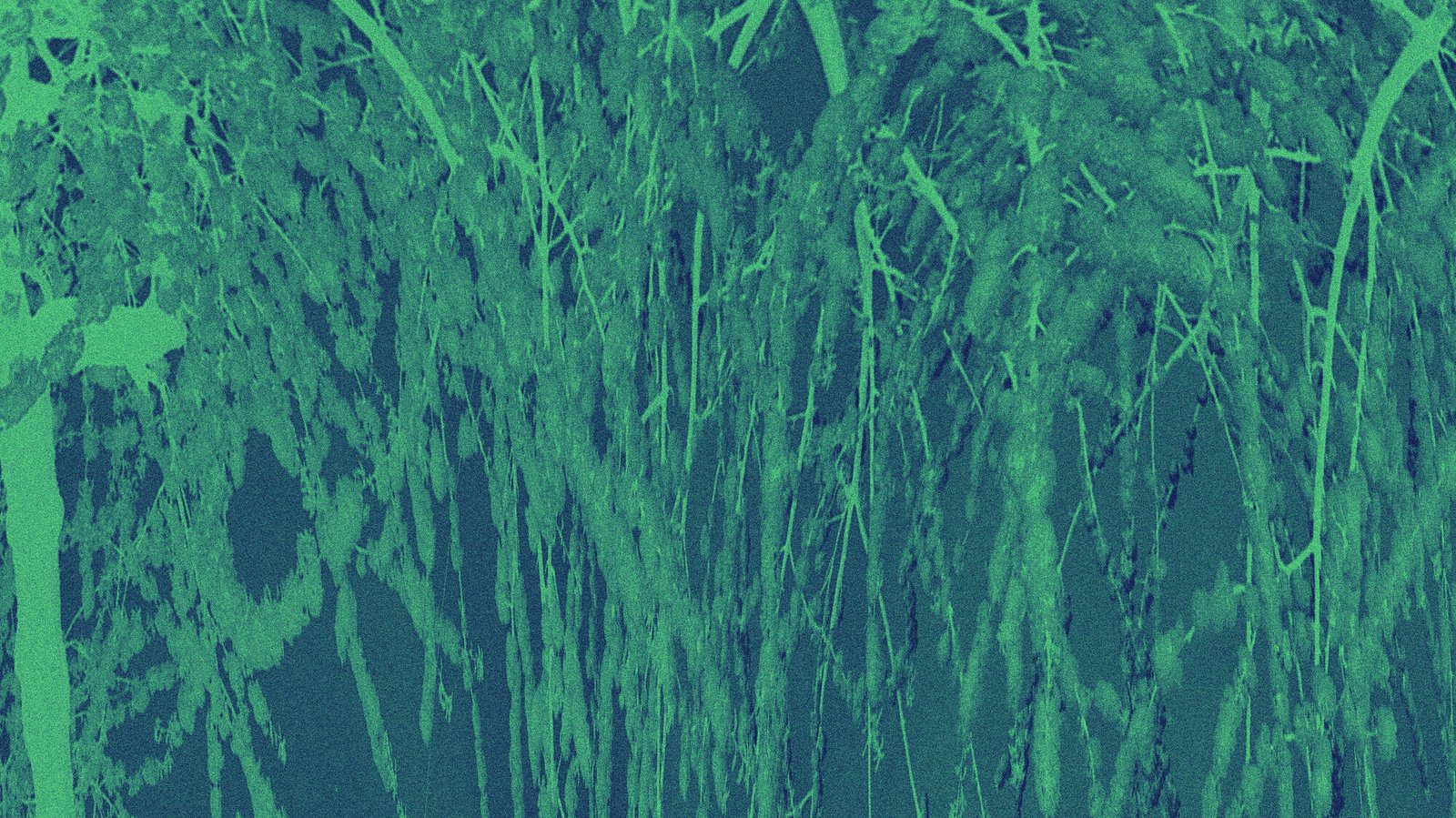Кладбище домашних животных
Писательница Юля Артемова рассуждает о смерти зверей, а также о скорби и памяти, с которыми мы остаемся после потери.
Об авторке:

Юля Артёмова – писательница, феминистка, беженка. Родилась в Минске, живёт в Отвоцке (Польша). Авторка книги “Я и есть революция”. В настоящее время работает над автофикшн-романом об эмиграции и жизни в Украине.
Второго ноября в Польше, где я сейчас живу, поминали мёртвых. В этот же день не стало моей старенькой кошки по имени Фуюца.
Она ушла из жизни не сама: я была её ангелом смерти – той, которая приняла решение, той, которая выбрала место и время, той, которая держала её на руках и гладила по голове, пока докторка вколола в слабеющую лапку укол. Той, которая сказала: “Спи спокойно, моя девочка”, и передала её на руки смерти.
Конфеты, купленные для того, чтобы угощать соседских детей, которые придут к нам на Хэллоуин, я потом съела в самые тяжёлые дни – первые после её смерти, когда у меня не было сил готовить или просто сходить в магазин. Раздать сладости я так и не смогла: ночь Хэллоуина мы провели в круглосуточной варшавской клинике. В нашем городке таких учреждений нет – лишь маленькие ветеринарные кабинеты, которые закрылись на длинные выходные.
Я уже давно поняла: моя память устроена таким образом, что мне не нужны никакие дни поминания мёртвых, никакие специально отведённые для этого места или даты. Я дважды эмигрантка и привыкла носить своё кладбище с собой. В моём случае это кладбище домашних животных, хотя и людям на нём тоже отведено некоторое место, немного с краю. Это не задумывалось специально: кажется, смерти людей мы должны переживать мощнее, болезненнее, острее. Кажется, люди важнее для людей, а животные так, где-то сбоку. Сколько искреннего сочувствия каждый из нас получил бы, рассказывая о смерти родного человека, друга, и сколько “не расстраивайся”, “ничего страшного, заведёшь нового”, “это всего лишь кошка/собака/крыса/попугай” в случае, когда умирает твой маленький зверёк. Но в моей картине мира люди оказались на обочине из-за эмиграции. Так вышло: моя большая семья далеко от меня, а мои животные были теми, с кем я делила слёзы, страхи, боль, тревоги, но чаще – радость, любовь, жизнь, сон, еду, дом, быт, ежедневность. Когда мне было больно, я обнимала кошку, плакала в неё, а маме писала, что всё хорошо, мы целы и здоровы.
В детстве я доставала родителей неудобным вопросом: кого они любят больше – меня или брата? Мама с папой отвечали, что любят нас одинаково, но в свои шесть лет я уже понимала: они говорят неправду. Каждая любовь уникальна, как и отпечаток кошачьего носа – не бывает одинаковых чувств, не существует прибора, чтобы их измерить и сравнить.
Каждая жизнь, каждая любовь и каждая смерть – это отдельная, неповторимая история, которую я прожила по-разному. Я расскажу их не хронологически, а в том порядке, в котором они завершились.

История первая: Лёша, 2020, Минск
Лёша появился у нас последним, третьим по счёту, и ушёл первым. Мы не знали даже его приблизительный возраст. Когда мы принесли его в клинику, облезлого, без половины зубов, врач предположил, что ему более 10 лет. Мы уверены, что он был гораздо моложе.
Лёшу мы подобрали на улице. Мы с Женей забрали из проявки плёнку, вышли из магазина и встретили облезлого, но очень ласкового кота с покрытыми язвами лапами. Мы покормили его – кот был тощий и явно голодный. Но первую очередь он пошел не к еде, а к моим рукам, и от этого меня размазало. Мы разбежались по делам, а к вечеру были на том же месте с переноской.
Лёша прожил у нас 11 лет. Язвы на лапах прошли, у него выросла шикарная шуба, но он остался таким же ласковым и человеколюбивым, как и в первый день нашего знакомства.
Лёша умер осенью 2020, за месяц до смерти Ромы Б., моего соседа с Площади Перемен. Смерть Ромы потрясла всю Беларусь. Смерть Лёши на месяц вытряхнула нас из активизма. За бурной политической жизнью мы совершенно упустили его болезнь. Когда мы заметили, что он начал слабеть, оказалось слишком поздно. Несколько дней под капельницами, ночь в стационаре. Нам позвонили и сказали: шансов нет, рекомендована эвтаназия в гуманных целях.
Мы приезжаем за ним с переноской, врач недовольно смотрит на нас: понимаю, мол, что вы не готовы принять трудное решение, но его правда нужно отпустить, так будет лучше и правильнее. Я говорю, что хотела бы, чтобы Лёша ушёл дома, в родных стенах, а не здесь, среди незнакомых звуков и запахов. Врач даёт подписать бумаги об отказе от эвтаназии и о том, что нас уведомили о диагнозе.
Женя вызывает такси, подруга звонит знакомой, которая работает ветеринаром. Поскольку оборот препаратов для эвтаназии ограничен и подвержен строгому учёту, мало кто из врачей готов усыплять животных на дому.
Дома мы даём Лёше любимое лакомство – удивительно, но у него впервые за несколько дней появляется аппетит. Врач приезжает и первым делом просит у нас заключение: она хочет избежать ситуации, когда ей придётся усыплять жизнеспособное животное, хочет видеть, что мы идём на это не потому, что кот нам надоел или его слишком дорого лечить.
Я сажусь в кресло и беру Лёшу на руки, глажу его по голове, прижимаю к себе. Врач через катетер вводит лекарство, и он засыпает у меня на руках. Я разговариваю с ним до последней секунды и даже дольше, потому что сама не понимаю, когда именно эта последняя секунда наступает.
Вот и всё. Так выглядит смерть.

Я кладу его тело в простыню. Оно не ощущается мною как его тело – это всё ещё Лёша, он такой же тёплый, мягкий, податливый. Мы звоним в службу индивидуальной кремации. Я узнала о её существовании пару лет назад, когда умерла кошка моих родителей. Всё происходит так: сотрудник приезжает за телом, забирает его, тело сжигают в кремационной печи и через пару дней возвращают прах. Прах можно развеять или хранить дома.
Те несколько дней, которые я ждала прах, я провела в тревоге: что, если меня обманут? Вдруг мне насыплют пыли из пылесоса или золы из костра? Я полезла в гугл, чтобы узнать побольше о процессе кремации и понять, как именно должен выглядеть прах.
Во время кремации – животного или человека – мягкие ткани и органические вещества сгорают, а кости остаются. Они становятся хрупкими, как мел. По сути в них остаётся лишь кальций и другие минералы, не подверженные действиям высоких температур. Крупные кости, вокруг которых много органов и мягких тканей, рассыпаются на фрагменты, мелкие кости, вроде тех что в пальцах или хвосте, могут встречаться целиком. Чтобы прах можно было развеять, его обычно просеивают или дробят – тогда он становится похожим на песок или пыль. Прах стерилен: вся органическая составляющая тела сгорает, он не пахнет, в нём нет ничего противного, пугающего, физиологичного.
Через день мне привозят пластиковый контейнер с прахом Лёши. Я открываю её и вижу те самые фрагменты костей. Зная строение кошачьего скелета, я понимаю: меня не обманули, во всяком случае, это точно кошачьи кости.
Воссоединение с прахом дало мне много спокойствия. То есть я не перестала чувствовать боль, но мою рану будто промыли, обработали и перевязали. Я ходила по дому, нося прах с собой, гладя коробку, целуя её, называя её по имени, разговаривая с ней. Женя смотрел на меня настороженно, спрашивал, всё ли в порядке. Но всё было в порядке настолько, насколько могло быть в той ситуации: я переживала горе так, как умела, так, как никто меня этому не научил.
Я взяла лист белой бумаги, высыпала на него прах и стала рассматривать. Вот фрагменты крупных плоских костей, возможно, рёбер. Это что-то из позвоночника. Маленькие кошачьи пальчики – похожие кости есть и в человеческих кистях. А эта потрясающая кость-шестерёнка – из кончика хвоста. Если слегка подбросить несколько костей на ладони, они легонько звенят, словно маленькие гвоздики. Прах был не перемолотый, не измельчённый, его не развеешь над рекой или полем – и я была этому очень рада.
Мне всегда нравилась идея о том, что мёртвых нас можно положить в землю, закопать как семечко, и потом из неживого вырастет живое. Мне так хотелось, чтобы весной мой котик пророс травой, продолжил бы эту цепочку жизни, пусть и не напрямую. С другой стороны мне также хотелось, чтобы от хоть в каком-то виде остался рядом. Так родилось моё решение: я выбрала несколько самых красивых, самых любимых костей и сложила их в маленькую жестяную баночку. Остальной прах мы закопали там, где частенько бывали во время велопрогулок.
Так в моей жизни появился интерес к смерти и к тому, что остаётся от нас после того, как мы умираем.
Когда я была вынуждена уехать из Беларуси, первая вещь, которую я попросила передать из дома, была маленькая коробочка с Лёшиным прахом. Пока я ждала в Киеве Женю и наших кошек, мы какое-то время были вдвоём в нашей свежей, ещё необжитой квартире – я и Лёша. Его смерть носила для меня горький привкус вины: я не разглядела его болезнь, мне было не до него, не до себя, а теперь уже ничего не исправить. Я пообещала себе, что больше никогда не повторю эту ошибку.
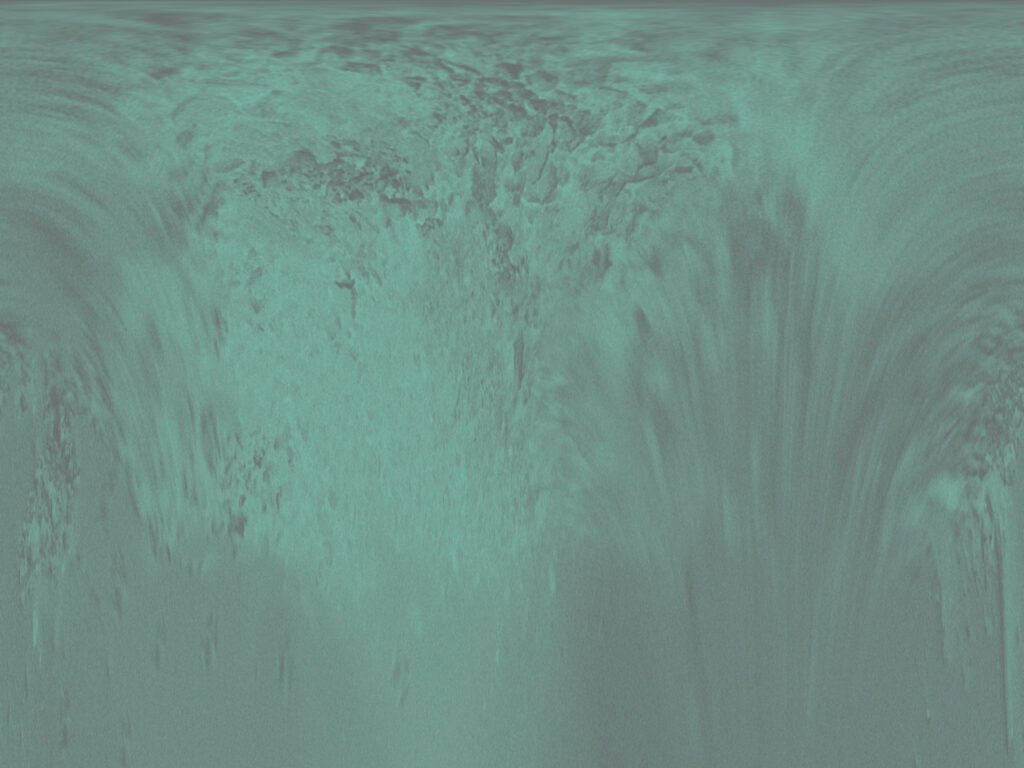
История вторая: Петра, 2023, Львов
Мы с Женей никогда не жили вдвоём: едва успели перевезти вещи на новую квартиру, как отправились за Петрой. У нас не было даже переноски – я везла её в обычной женской кожаной сумке, не застёгивая молнию до конца, так, что из неё торчала голова котёнка. Петру нашли на улице, на проезжей части – маленькую, напуганную. Вылечили, привели в порядок и отдали парню, который прожил с ней пару месяцев и понял, что у него нет времени заботиться о кошке. Так она оказалась у нас.
Петра была невероятно красивая, белая, с голубыми глазами. Но главной в ней была не внешность: это была кошка с бойцовским характером. Она никогда не убегала от опасности, а всегда билась с ней. Мне казалось, что Петра умнее остальных кошек: в ней была какая-то глубина.
Однажды, в первые месяцы нашей совместной жизни у меня случился депрессивный эпизод. Я помню, как лежала в ванной, а Петра сидела с краю и смотрела на меня своими внимательными глазами.
“Я тебя не люблю и никогда не полюблю”, – зачем-то сказала я кошке, у которой тогда ещё не было имени. Сказала – и тут же по моей щеке побежала слеза. Я хотела сделать больно не кошке, а себе, это была такая разновидность селфхарма – как когда режешь руку и пытаешься почувствовать боль. Петра смотрела на меня, а я на неё, и мне казалось, что она понимает каждое слово.
Но я её, конечно же, полюбила.
Летом 2021 года я оказалась в Киеве, одна, растерянная, испуганная. Пока я искала квартиру, восстанавливала, ждала свою семью. Тогда и мыслей не было о том, что ко мне приедет только Женя – нет, нас четверо, мы семья, мы не будем разделяться дольше, чем на месяц. Переступив порог нового дома, Женя открыл переноску: Петра и Фуюца вышли из неё, внюхиваясь, любопытно оглядываясь. Фуюца тут же легла на пол у моих ног, а Петра принялась обходить каждый угол нового дома, проверяя, насколько тут всё хорошо. Так чужая съёмная квартира на полгода превратилась в дом. А потом началась большая война.
В конце февраля 2022 года мы оказались во Львове. Как и многие, мы думали уезжать в Польшу, но в те дни на границе были огромные очереди, а эвакуационные поезда так набивались людьми, что те вынуждены были оставлять чемоданы и переноски с животными на перроне. “Мы никого нигде не бросим и не будем разделяться – если ехать, то только всем вчетвером, мы семья”. Мы решили выждать неделю-другую, но так и остались во Львове на два с половиной года – и всё из-за наших кошек.
Когда Петра начала терять аппетит, мы пошли в ближайшую ветеринарную клинику. Ей сделали анализы и назначили преднизолон – лекарство, которое улучшает качество жизни, при этом потихоньку эту жизнь сокращая. Каждый месяц мы показывали её врачу и сдавали анализы, корректируя дозировку таблеток и схему лечения.
Однажды я заметила, что её нижняя челюсть будто съехала на бок. Пару дней назад мы были на приёме, и всё было в порядке. Мы снова отправились к врачу. При осмотре выяснилось, что у неё перелом. Он возник на ровном месте, без удара или падения – так бывает при агрессивной быстро растущей злокачественной опухоли.
Мы оперировали её дважды. Первый раз ей удалили сломанные кости, собрали челюсть, вставили эзофагастому – трубку, которая торчала из шеи и вела прямо в пищевод. Теперь мы кормили её таким образом, через эту трубку, каждые 3-4 часа.
Всё, что я помню про те зимние дни, – это то, как я всё время куда-то бегу. Из-за обстрелов электричество в городе отключали на 4 часа, а значит, в этом районе пропадал и мобильный интернет. Я брала ноутбук и бежала туда, где интернет есть, садилась в кафе, заказывала американо, подключалась к вайфаю, чтобы немного поработать и снова бежать домой – кормить Петру. Покормив её, я хватала рюкзак и бежала дальше, туда, где есть связь.
Вторую операцию проводили в больнице при полном отключении света. Мы сидели в тёмном фойе, в пальто и куртках, и ждали. Генератор мерно гудел снаружи, снабжая электричеством операционную. Петра долго не приходила в себя, а когда проснулась, то температура была очень низкой, её грели несколько часов в специальной камере, а мы грелись сами, дули на руки, кутались в шарфы.
Наконец доктор пригласил нас в кабинет. Прогноз был неблагоприятный. Если в ближайшее время Петра не начнет есть сама, без трубок, ее придется отпустить.
В ближайшие пару дней чуда не произошло. Более того, пока мы ехали в такси по тёмному, обесточенному городу, Петра умудрилась вытащить трубку-стому. Это значит, что мы больше не сможем её кормить. Мы позвонили врачу и назначили эвтаназию на пятницу. Последние часы её жизни мы провели вместе. От красоты Петры ничего не осталось: тощая, облезлая, с перебинтованной шеей, с выбритым для УЗИ животом, который так и не успел зарасти шерстью – всё это было для меня неважно. Мы лежали на кровати в комнате без отопления и электричества, накрывшись пледом с головой, она урчала у меня на руках, будто всё понимала и хотела мне объяснить: я знаю, что ты делаешь, и ты поступаешь правильно.
Как и Лёша, Петра умерла у меня на руках. Как и тогда, я не смогла ощутить момент перехода: вот она ещё живая, а вот уже нет. Я завернула её тельце в голубое полотенце и отнесла на балкон – не сразу, лишь спустя час. В последние месяцы болезни она всё время мёрзла, и мне было невыносимо от мысли, что теперь она должна провести ночь на холодном балконе.
Мы закопали её на следующий день в парке на окраине города. Индивидуальную кремацию животных во Львове не проводили, их тела сжигали массово, как листья. Это называлось практичным бездушным словом “утилизация”. Чтобы получить на руки прах животного, нужно было ехать в Киев или Харьков, город, который подвергался самым массированным обстрелам. Так мы решили, что лучше всё же закопаем Петру.
Через полгода, летом, мы пришли на место, где она похоронена – там уже росла трава.
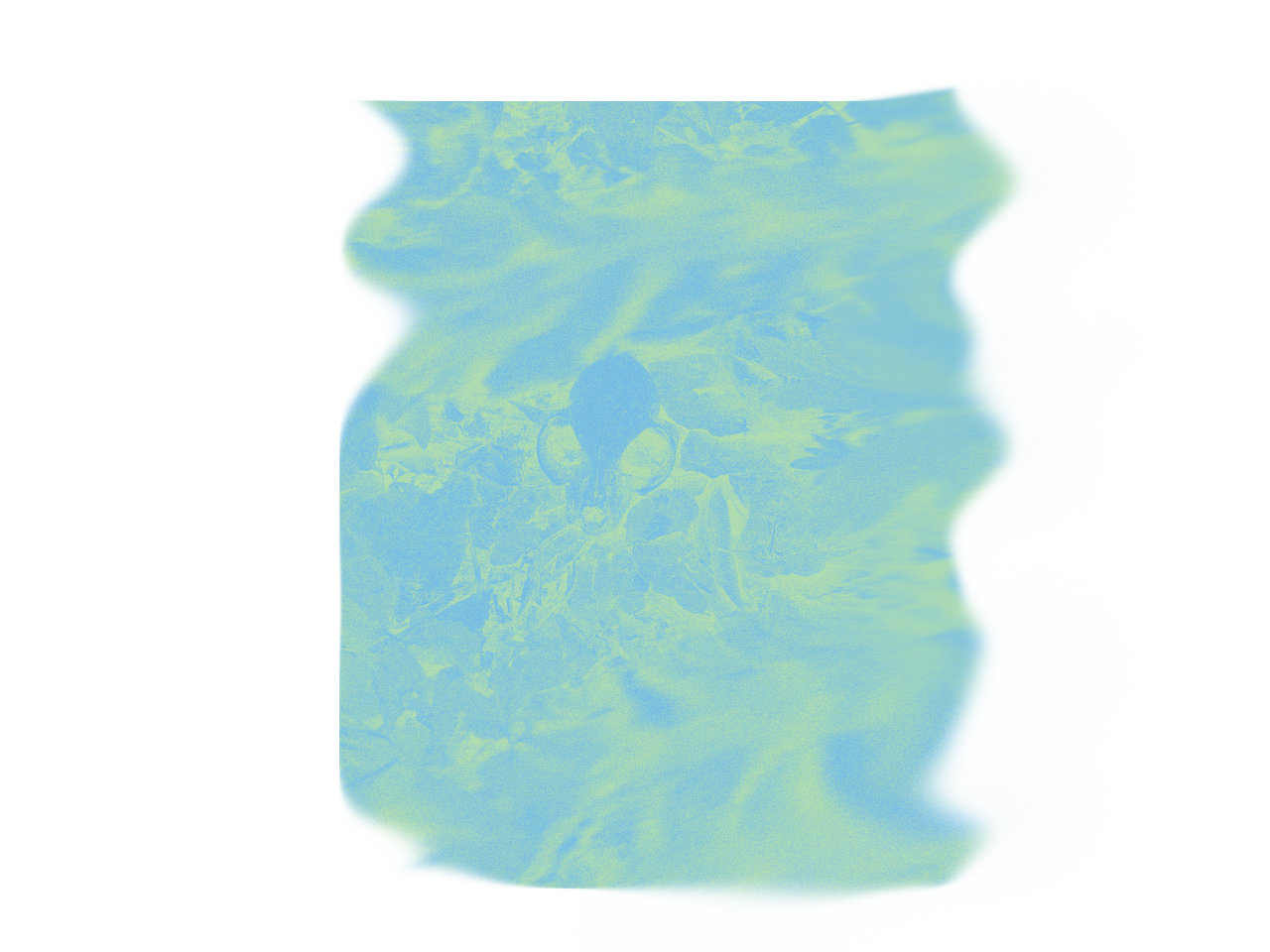
В годовщину её смерти нас ждал сюрприз: могила оказалась разрытой. Края ямы были очерчены, словно лунка зуба, они ещё не успели осыпаться или оплыть из-за дождя. Рядом была насыпь, из которой торчал угол голубого полотенца. Скорее всего, её раскопали дикие животные. Я осмотрелась и нашла на земле кость: длинную, продолговатую, серую, похожую на куриную. В тот момент мне показалось единственно верным решением забрать её с собой, поэтому я сунула кость в карман плаща.
Дома я рассмотрела свою находку внимательнее: локтевая кость, маленькая, тонкая, аккуратная. Я мыла её под краном, купила мягкую зубную щётку, чтобы счищать с неё землю и останки. В кости, конечно, не было ничего страшного: никаких кусков мёртвой плоти, ничего противного или отталкивающего. Я нашла на ней присохшую белую шерсть. В интернете я прочла, что для длительного хранения кости следует обезжирить, а потом отбелить. Я заботилась об этой кости, как о ребёнке, это стало моим ежедневным ритуалом. Я просыпалась, шла в душ, чистила зубы, умывала лицо, расчёсывала волосы, наносила крем, а потом брала щётку и чистила кость, меняла раствор в стаканчике, где она лежала.
Спустя какое-то время я вернулась на место захоронения и нашла там череп. Я не искала его специально, просто пришла и увидела – он лежал на земле, будто ожидая меня. Я забрала с собой и его.
Тогда мы уже знали, что нам придётся уехать из Львова. Город, который мы не выбирали, но который полюбили вопреки всему. Город, в котором пережили два самых сложный и интересных года нашей жизни. Город, в котором умерла наша Петра. На протяжении месяца мы методично упаковывали вещи: наша жизнь поместилась в 14 коробок и два чемодана.
Тогда же я думала, как поступить с черепом. Мне нестерпимо хотелось забрать его с собой, но в реальности это выглядело проблематично: мы должны были пересекать польско-украинскую границу с огромным количеством вещей, подробный досмотр был неизбежен, а объяснить происхождение кошачьего черепа в моём багаже мне было бы сложно на любом из доступных мне языков.
Тогда я приняла решение: закопала череп там же, где его нашла. Он стал символом того, что не всё можно забрать и увезти с собой – с чём-то приходится расстаться. На память о Петре у меня остались другие её кости, те, которые я смогла найти. На сканере пограничного контроля они выглядели как палочки и не бросались в глаза.
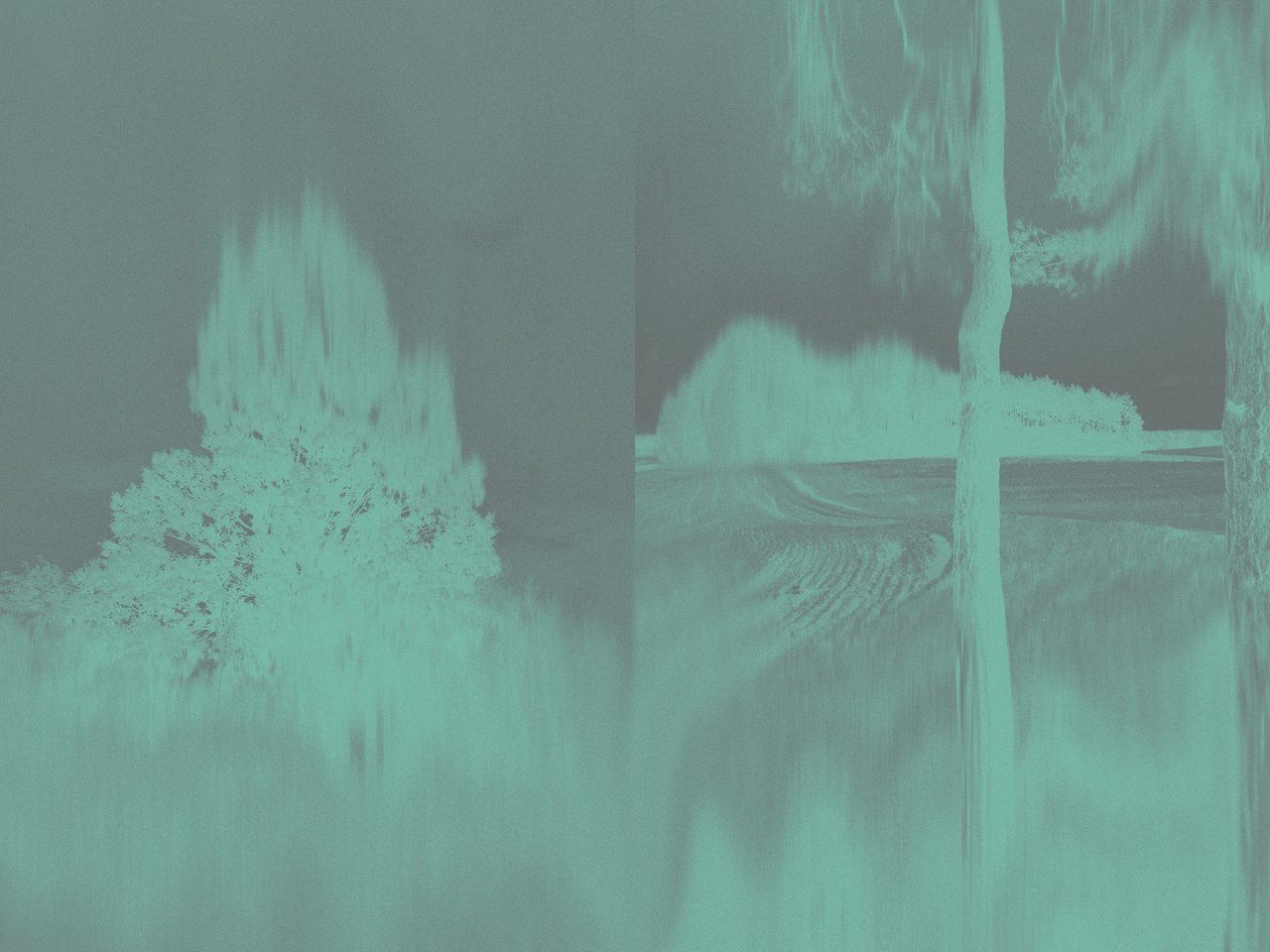
История третья: Фуюца, 2025, Варшава
– Фу, – говорила я, – какая же ты циничная кошка.
Фуюца крутилась под ногами, тёрлась об углы, ловила взгляды и подставляла спину, чтобы её погладили – она осталась единственной и будто хотела, чтобы все на неё смотрели и уделяли ей внимание. Я же переживала потерю Петры, оплакивала её. Слёзы стали моей ежедневной гигиенической практикой – такой же, как душ или чистка зубов. В своём горе я стала слепой и чёрствой. В момент смерти происходит такое искажение: умершее животное кажется невероятно умным, прекрасным, глубоким, а то, которое осталось в живых, начинает раздражать своей пустотой и навязчивостью.
Сколько ни очеловечивай животных, они останутся собой. Мы пытаемся растолковать их реакции так, как толковали бы собственные, но это большая когнитивная ошибка. Моё горе было моим, я делила его с Женей, но что же в этот момент чувствовала Фуюца? Понимала ли она, что Петры больше нет, осознавала ли изменения, строила ли какие-то причинно-следственные связи? Не думаю. Она была маленьким эгоцентричным зверьком, который хотел, чтобы его гладили и любили.
Мы с Женей сразу договорились: пока Фуюца жива, мы не будем заводить новых животных. Пожилые кошки болезненно воспринимают появление молодого конкурента и могут уйти в депрессию. Мы решили: раз наша девочка вытащила счастливый билет и пережила всех остальных собратьев, она заслужила золотую старость, где будет единственным избалованным ребёнком. Впрочем, она была им всегда.
Фуюца была нашей второй кошкой, средненькой. Через два месяца после того, как мы съехались и завели Петру, мы возвращались домой и услышали пронзительный кошачий писк. На козырьке подъезда кричал маленький испуганный котёнок. Как он туда попал? Очевидно, не сам. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы достать его оттуда.
Я полюбила Фуюцу сразу же. В детстве она была не очень симпатичной: толстенькая, неуклюжая, с маленькими глазками и не самым интересным окрасом, робкая и пугливая. Но я сразу разглядела в ней свою девочку и влюбилась. Так я окончательно убедилась: совершенно неважно, как выглядит животное, какой оно породы, насколько соответствует твоим вкусам – зорко одно лишь сердце.
Фуюца выросла и словно преобразилась: она стала той самой manic pixie dream cat. Пухленькая, плюшевая, пугливая и смешная, с внешностью котёнка и журчащим голосом, ласковая, нежная, человеколюбивая.
Большую часть жизни Фуюца прожила в Минске. Из окна нашей квартиры она видела, как Площадь Перемен забрасывают светошумовыми гранатами. Оказавшись в Киеве, слышала взрывы большой войны, когда 26 февраля мы в 7 утра бежали на автобус, но так и не успели. Она сидела с нами во львовских холодных подвалах, пережидая ракетные атаки. Но самая счастливая и спокойная часть её жизни прошла в Польше.
Мы поселились в городке Отвоцк, который считают одним из лучших пригородов Варшавы. Здесь мы зажили спокойно, наслаждаясь простым бытовым мещанским счастьем: по выходными я готовила пироги, выращивала цветы, вышивала, Женя же в солнечный день выносил на балкон столик и два стула – один для себя, другой для Фуюцы. Он наливал чашечку кофе, кошка садилась рядом с ним, щурясь под лучами солнца.
Последний год я будто всё время ждала плохих новостей. Фуюце было семнадцать, и для кошки это весьма почтенный возраст. Когда у тебя молодое животное, ты с восторгом наблюдаешь за тем, как оно учится новому. Когда твой зверёк стареет, процесс идёт в обратном направлении: она разучивается делать то, что когда-то давалось ей с лёгкостью. Ещё год назад она без труда запрыгивала в ванную. Восемь месяцев назад самостоятельно забиралась на диван. Шесть месяцев назад ходила ровной походкой, а теперь стала чуть прихрамывать из-за слабых лап и лишнего веса. Где-то среди этих признаков увядания затесались симптомы надвигающейся болезни, разглядеть которые мне было страшно.
Каждое утро я просыпалась, насыпала в её миску корм, включала на кухне кран (Фуюца любила пить воду именно так, из-под крана) и с облегчением вздыхала – не сегодня. Я шла завтракать, а она укладывалась в свою любимую картонную коробку или в солнечное пятно на полу.
Когда Фуюца заболела, это стало понятно сразу. Вечером в Хэллоуин мы отвезли её в стационар варшавской клиники. Больше мы её оттуда не забирали.
Мы навещали её каждый день. В минской клинике нас пускали в стационар надолго, мы могли находиться там около часа. Здесь же было куда строже. Её выносили на пятнадцать минут в коридор – тёплую, разомлевшую от успокоительного, закутанную в плед. От Фуюцы пахло кормом – врач сказала, что у неё появился аппетит и она охотно ест. Критические показатели стали снижаться. Забрезжила надежда на выздоровление.
Нам позвонили из клиники в шесть утра. Так, ещё не ответив на звонок, мы всё поняли. Мы приехали к ней. Фуюца была под успокоительным, слабая, едва держала температуру. Я знаю эти разговоры, которые вынуждены вести ветеринары. Я понимаю их по интонациям, считываю по мимике. Ничего сделать нельзя. Показатели плохие, самочувствие ухудшается, она слабеет, капельницы не помогают, в лёгких жидкость, поэтому ей тяжело дышать.
– Мы бы хотели сделать это дома, – говорю я.
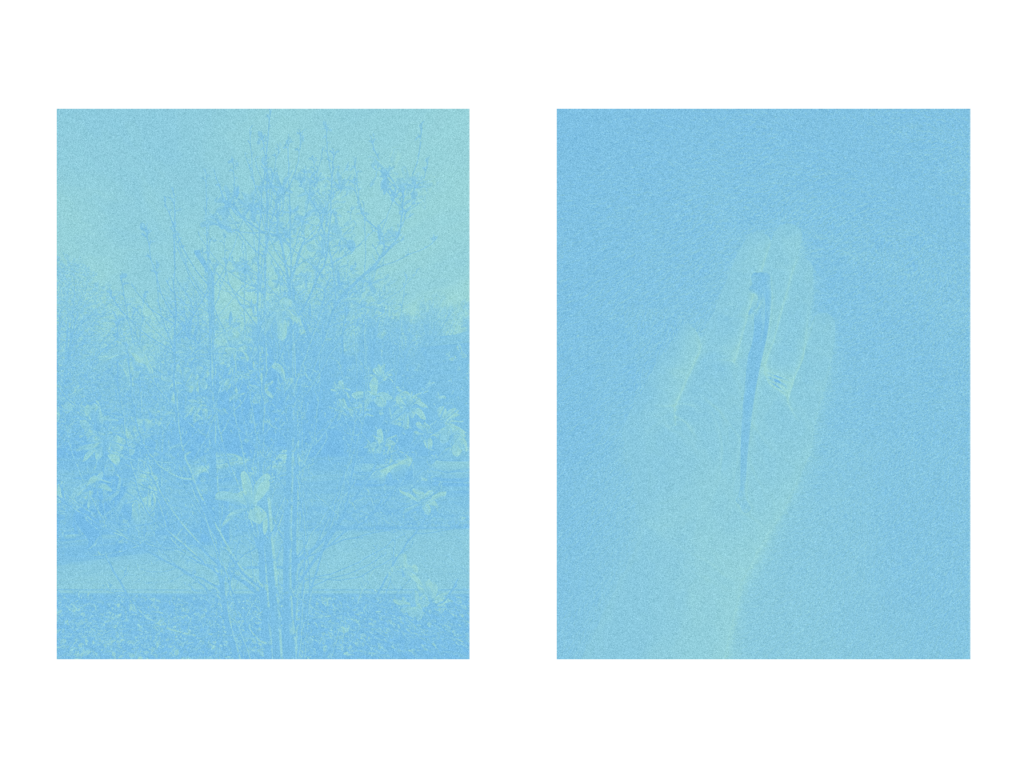
И тут же понимаю: на это, возможно, нет времени. Доехать домой, найти в незнакомой стране в длинные выходные ветеринара, который согласится приехать в пригород, дождаться его. Сколько на это уйдёт часов – два, три, шесть? Докторка подтверждает мои опасения: Фуюца может не перенести дороги, может просто умереть в машине такси, мучительно хватая воздух ртом.
Мы просим пятнадцать минут, чтобы попрощаться. Мы по очереди берём Фуюцу на руки. Не знаю, узнаёт ли она нас. Я говорю ей о том, что она была лучшим, что случилось со мной в жизни, по сути адресовывая эти слова себе и Жене. Докторка возвращается, вводит лекарство через катетер, и Фуюца засыпает глубоким сном. Через пару минут она делает инъекцию другого препарата, который останавливает сердце.
Самым страшным для меня оказалось то, что для неё последние дни жизни выглядели так: мы, её семья, отдали её в чужое незнакомое место, где ей кололи лапку, пичкали лекарствами, проводили непонятные процедуры. Чужие стены, куча животных, посторонних запахов, боль, страх. Она всегда была изнеженной домашней пугливой девочкой. Пока мы навещали её в клинике, она всегда была под действием сильного успокоительного. Не знаю, несколько она осознавала и понимала происходящее, что чувствовала, как переживала это.
Говорят, брошенные животные ощущают предательство. Я одновременно не верю и верю в то, что это так. Не верю, потому что мы, люди, не умеем быть эмпатичными к тем, кто отличается от нас. Мы просто переносим на них свои чувства, наделяем их тем, что чувствовали бы сами. Верю, потому что знаю силу, с которой животное привязывается к человеку и понимаю, что такую привязанность невозможно разорвать безболезненно. Чувствовала ли моя девочка себя преданной, брошенной? Я бы отдала очень многое, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
Тут же в клинике врач рассказала нам о вариантах погребения. В Польше нет официальных кладбищ для захоронения животных, но существуют стихийные, о которых все знают. Мы выбрали кремацию. Для этого нам нужно было позвонить в кремационную службу, назвать клинику, кличку животного и собственную фамилию. Работники службы сами приезжают за телом, готовят его к кремации, которая произойдёт на следующий день.
Перед сжиганием мы приехали попрощаться с Фуюцей. Она была завёрнута в белую ткань, сверху на ней лежала красная роза, рядом – табличка с именем. Такая же табличка была и на печи. Я погладила её тело и поняла, насколько чужим оно было под моей ладонью – холодное, закоченевшее, выгнувшееся в неестественной позе. После тело на наших глазах отправили в печь, закрыли заслонку. Оператор выставил нужную температуру и параметры.
Через час мы вернулись за прахом. Нам отдали его в герметичной баночке. Я заметила, что его было гораздо меньше, чем в случае с Лёшей. Также в прахе не было крупных костей, при этом он не был измельчён в пыль. Скорее всего, его просто просеяли через сито. Часть праха я отсыпала, чтобы оставить на память. Другую я бы хотела закопать или развеять в том месте, где мы часто бываем – на берегу реки Свидер под большим раскидистым дубом.
Теперь моё кладбище домашних животных – это три жестяные баночки на полке среди сувениров, свечек, статуэток и фотографий.

После всего
После всего остаётся тишина, в которой ты учишься жить. Фуюца наполняла дом звуками, а быт – ритуалами. Она занимала так мало пространства, но так много места в наших жизнях. Каждый раз, когда у нас умирало одно животное, оставались другие. Но мы решили не заводить никого нового, пока Фуюца жива. Я так и сказала Жене: мы были семьёй, а теперь мы просто пара.
Мы убрали лоток, помыли и спрятали в шкаф миски, раздали оставшийся корм. Коробка, в которой Фуюца любила лежать, так и осталась стоять посреди комнаты, рядом с когтеточкой. Когда-нибудь я выброшу их, но не сегодня. С каждой уборкой в квартире становится всё меньше её шерсти.
Говорят, острую фазу горя потери человек в среднем переживает полгода. Но я бы хотела, чтобы эта боль не проходила никогда, ведь она связывает меня с Фуюцей.
Фуюца так ни разу и не приснилась мне за всё то время, что её нет рядом. Я страшно рациональна, не верю в радугу, облачка и загробную жизнь. Поэтому, говоря с Фуюцей, я знаю: меня некому услышать. Я обращаю эти слова к себе самой. Они как бумеранг – делают круг и ударяются мне в сердце. Но почему-то мне важно увидеть Фуюцу во сне. Будто этот сон подтвердит что-то, даст ответы на вопросы, которые мучают меня всё это время. Знала ли она, что мы её не бросили, понимала ли, что мы рядом? Простила ли она нас? Были ли мы чем-то важным, чем-то дорогим в её жизни? Была ли она счастлива? Всё это лишь мой глупый антропоцентризм. В своём горе я не способна оторваться от того, что сознание животного устроено принципиально иначе и, скорее всего, не оперирует такими категориями как прощение и счастье. Но я всего лишь человек.
Те, кто прошли через смерть животного, говорят одно и то же: когда-нибудь ты созреешь, ты будешь готова к новому зверю, к новым отношениям. “Когда?” – спрашиваю я. “Ты поймёшь, ты почувствуешь”, – каждый раз слышу я в ответ. Я не знаю, как должно выглядеть это чувство. Моя мама завела нового кота спустя неделю после смерти кошки. Спустя неделю после смерти своей я проснулась от того, что мне показалось, что она урчит рядом.
Каждое животное заслуживает того, чтобы в нём разглядели индивидуальность, чтобы не быть лишь обезболивающей таблеткой, подходящей по форме затычкой для кувшина с горем. Каждое животное заслуживает того, чтобы его полюбили самого по себе. Как же понять, что ты готова любить кого-то нового, как понять, что потеря оплакана в достаточной мере?
Все вокруг говорят о том, что я должна дать своему горю место и время, что важно пережить его, пожить в нём. Но я понимаю: там, где ты одной рукой даёшь себе время, другой его отнимаешь. Где-то в клетке в каком-то приюте сидит в одиночестве и грустит мой будущий зверёныш, ждёт, пока я пытаюсь разобраться в себе и оплакать ту, которой больше нет, ту, которой я больше не смогу дарить свою любовь. Это время безвозвратно уходит, потом ты будешь жалеть о нём, потом тебе обязательно его не хватит.
Я знаю, что когда-нибудь в нашей жизни снова появится животное.
Я не знаю, когда.
Я не знаю, как быстро смогу его полюбить. Но рано или поздно это случится.
Я знаю, что и это животное однажды уйдёт, оставив нас с разбитыми сердцами. И даже тогда, спустя несколько смертей, мы не будем к этому готовы. Но, думаю, я должна дать и этой, ещё не начавшейся истории любви, случиться. Даже понимая, что хэппи-энда в ней не будет.