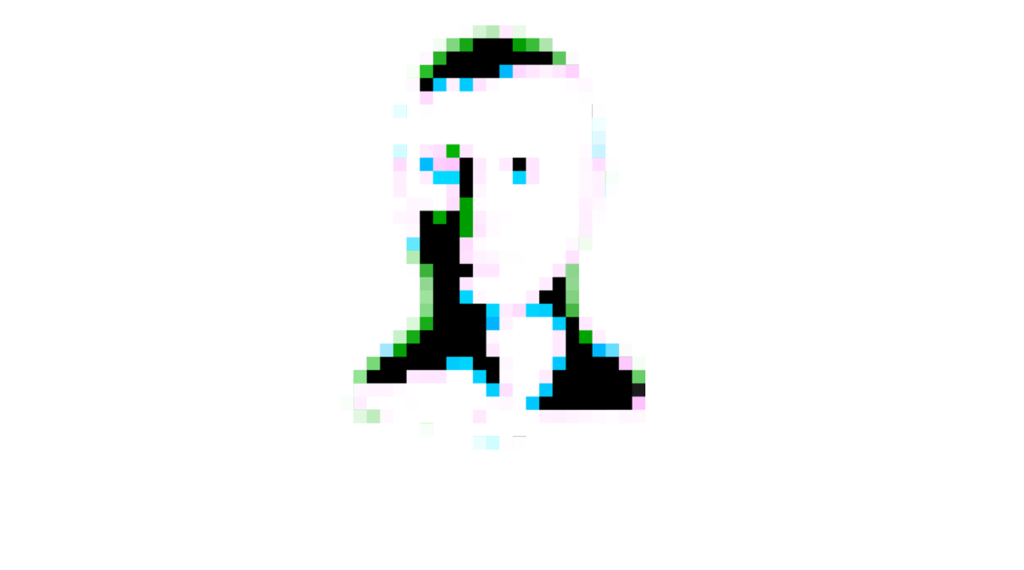“Зима никогда не кончается”:
Рассказ беларусской писательницы Л.В. о непростых отношениях с отцом

«ты до воскресенья?»
*
я кивнула, но потом на всякий случай ещё и сказала вслух, потому что под маской он мог не разглядеть моего выражения лица. я попросила его не разговаривать, боясь, что повредит трубку: конец её торчал из нижней части папиного горла будто шнурок туго затянутой панамы. тогда папа стал щупать правой рукой край кровати, и дойдя до кончика простыни, рывком потянул ее на голый живот. я подумала, что никогда не видела папу таким чистым. он попытался приподняться, перехватить простыню другой рукой. его глаза бегали из стороны в сторону, будто впервые видели провода, обвитые вокруг тела и головы. медсестра сказала, что разрешает побыть еще. я вышла.
*
за дверью реанимации я села на кушетку. кусочки разноцветного бетонного пола расплывались и собирались перед глазами в стереограмму из детского журнала. за исключением меня, в коридоре никого не было. пахло замершей грустью. я зашла к папе на две минуты, вообще, скорее всего, даже меньше. попав в палату, я не знала, что сказать. мне показалось, что говорить про любовь, как предложила мама, будет слишком тяжело, поэтому смогла только взять его за предплечье.
*
мама вышла и долго держала мою руку, отвернувшись влево. я терпеливо ждала, пока она заплачет, но этого не случилось.

*
на моей любимой фотографии из детства отец поднимает меня на руки и бросает в кучу осенних листьев. но я вспоминаю о другой, которая сделана на фоне роддома. здесь отец не улыбается. он держит меня, новорожденную, с настороженным выражением на лице. эта фотография висит над отцовской кроватью. служит ли это его напоминанием, что я все еще нахожусь по другую сторону провода/злости/правды?
*
время кажется отупевшим. собака сопит на моей подушке. я мечтаю о тексте. о таком тексте, что залечил бы болезненные трещинки. о тексте, который не дается уже долгие месяцы, может быть годы. о тексте, который отрывками собирается в голове во время возвращения с покупками из Евроопта, подъема по зеленым ступенькам дома. в дрожи моей спящей собаки я узнаю папины дерганые движения.
*
соврала
*
я не собиралась писать текст про отца, но это и не про него
*
может, зима никогда не кончается
*
чтобы написать желанный текст, я выдумываю сны. я притворяюсь, что мне снятся важные знаки: птицы, летящие по льду, дырочка в зубе в правом верхнем углу рта, таяние солнца в дрожащем воздухе. на самом деле ничего этого нет. мне не снятся сны. может быть, мне кажется, что я застряла в повторениях одинаковых дней, потому что пишу это в феврале, а февраль — самый жестокий месяц. может, зима никогда не кончается, только всё больше становится похожа на другие сезоны, замирает подо льдом родного озера. в этом феврале недели попросту омертвели. днём солнце яркое и отражается в тонком снегу. поэтому я представляю, что мы на краю земли, в самом её маленьком ледяном городе. что я пройдусь ещё немного, и карта закончится в никуда. в никуда — это в тёмную материю, в ядро, во вчера.
*
иногда скучание — это когда я представляю, что мы оба прячемся на балконе. только я прячусь от маминого ремня, а ты потому, что не хочешь, чтобы я подслушала твои разговоры. конечно, мы там не вместе — нас разделяет пыльный ковёр на полу балкона, подоконник, усыпанный собачьей шерстью, пространство, образованное прошедшим временем. ты закрываешь дверь прямо перед моим носом, и я остаюсь смотреть на твою спину за стеклянным окошком. отпечатки моего носа со стекла я через пару часов вытираю кусочком тряпки — бывшими трусами.
*
на вешалке остаются:
2 пары джинсов
штаны (для выгула собаки)
свитер красный
свитер серый
подштанники
*
я беру серый свитер за рукав и рассматриваю манжету: она протёрта, в нескольких местах шерсть истончилась до пары ниток. одна из них вылезла сильнее других, сантиметра на три
*
я знаю, что цикады могут петь петь петь петь так громко, что набухают от силы своего голоса и в конце концов взрываются.
*
может, это неправда
*
в Китае цикада считается символом бессмертия
*
и вот это уже точно не ложь
*
меня интересует умирание. я часто представляла, как папа уходит. когда я была в санатории после 5-го класса, среди нас было популярно приложение, высчитывавшее даты смерти. я ввела твое имя, дату рождения, немного бесполезной информации типа любимого времяпрепровождения, и ещё обязательно биографически точные данные о вредных привычках: с какого года ты куришь, с какого года пьёшь, как много времени проводишь на работе. пока результат расчёта смерти грузился, я наблюдала за анимированной фигуркой смерти в черном плаще, которая усердно думала над приговором. после просмотра результатов я не спала всю ночь, стараясь забыть эту игру, или хотя бы подтасовать в воспоминание ложные даты. всё случилось совсем не вовремя.
*
я ещё не раз вспоминаю про взрывающихся цикад, пока папа болеет, пока он умирает, а затем снова возвращается. цикады сопровождают меня в автобусах и на улицах ледяного города, когда я с собакой бесцельно брожу то вокруг одного озера (поменьше), то вокруг другого (побольше), ожидая, пока она наконец покакает.
*
иногда я тоже чувствую, что взорвусь
от тоски
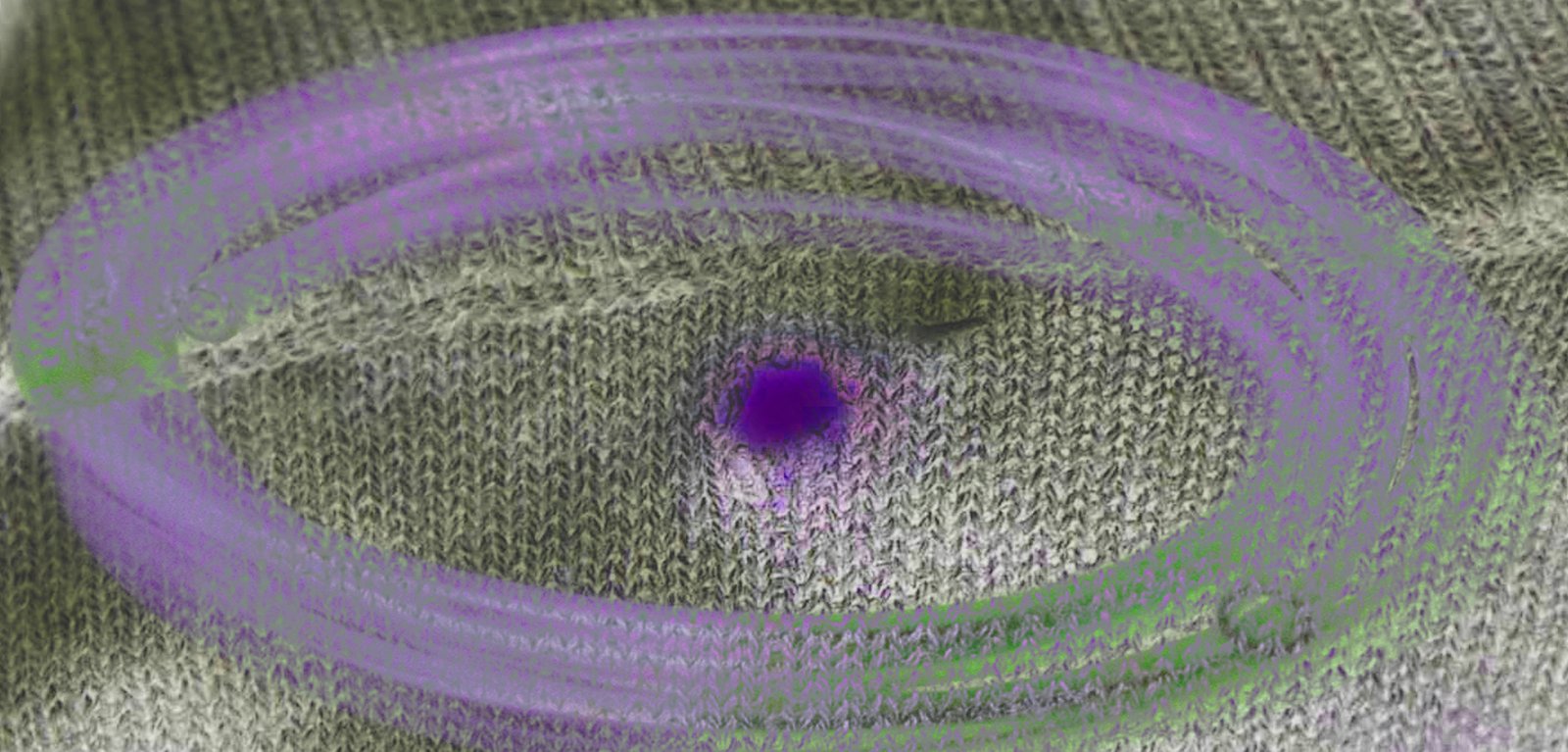
*
на последней февральской неделе папа позвонил. звонок сразу же сбросился, я только успела заметить, как экран загорелся и снова потух. я перезвонила — боялась, что если не позвоню сейчас, то он больше вовсе не наберет мой номер. папа в трубке звучал металлически далеко. это не было совсем новым измерением моего отца: расфокусированный, его голос утверждал между нами границу привычного молчания, и я ощущала, как слова ускользают
расп ол з а ю тся карабкаются из моего рта.
*
мне хотелось заполнить пространство телефонного звонка чем-то весомым. рассказать, что три дня назад я стояла у вешалки с твоими вещами и считала дырки на рукавах свитера. или что открыла шкаф со строительными инструментами и задыхалась от слез, глядя на гвозди. в конечном итоге и я, и он стоим перед одним и тем же: готовностью друг друга впустить. в этом разговоре, как и во всех произошедших до, не было нормального окончания: я просто знала, что мы возвращаемся на прежние места. на кухне прохрипела конфорка плиты, по трубам шелестит вода, горячий телефон у уха становится всё тяжелее. “скоро увидимся, ятебялюблю” я проговорила очень быстро. настолько быстро, что испугалась: может, ты не услышал, и теперь мне придется повторять?
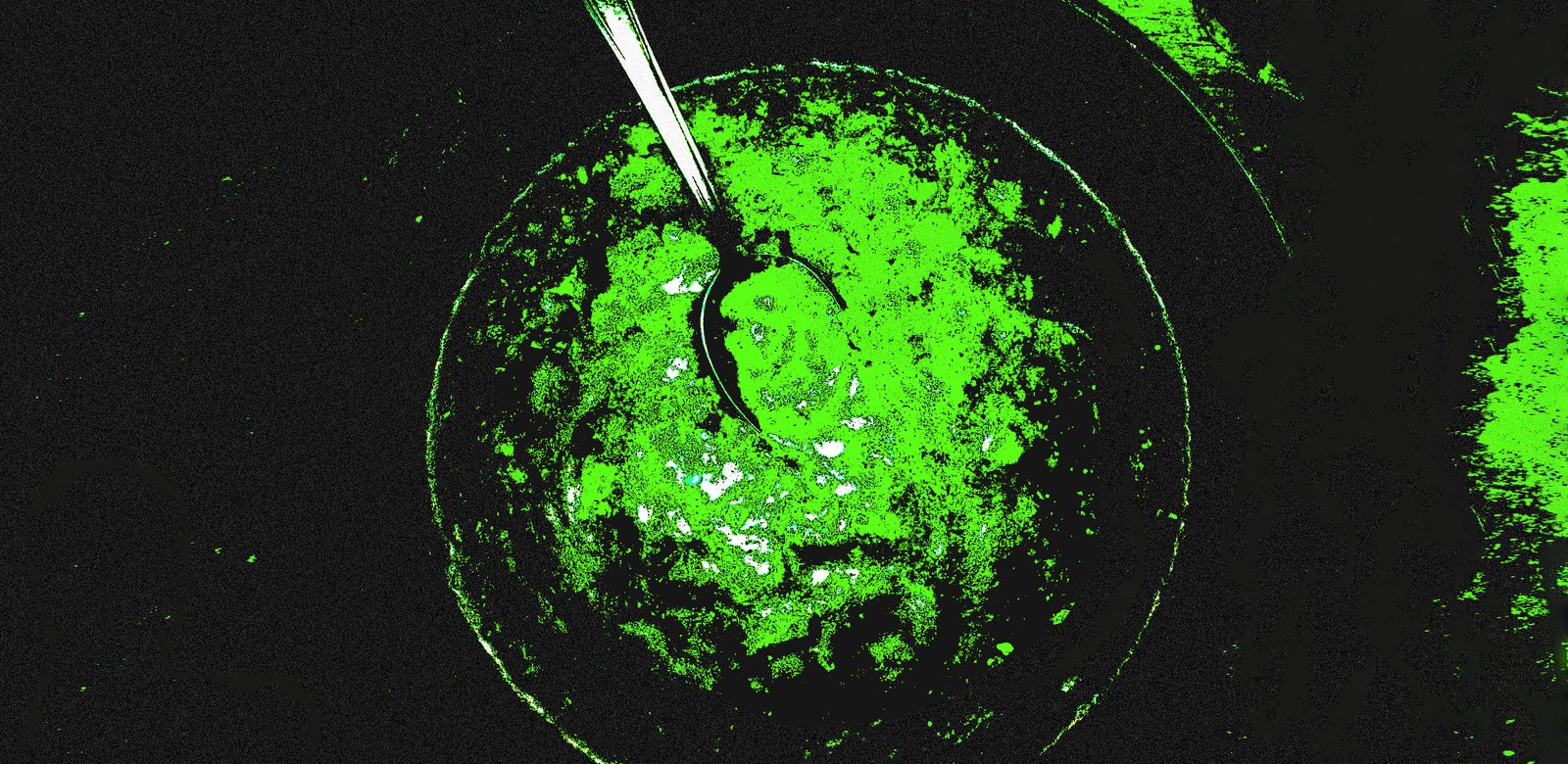
*
я не стараюсь написать о любви. этот текст вообще не должен был быть о ней. это просто
маленький
текст
о
грусти
*
нахождение языка — самая сложная задача для человека. в английском, как в беларуском и русском языках, “мне грустно” означает внутреннее переживание: I am sad. но, например, в ирландском языке для отображения грусти используют фразу “ta bron orm”, которая означает “на мне грусть”. на мне лежит грусть. если нет слов в языке, способных его описать, явление теряет свою сущность, приживается в небытие, изолированном от взгляда, направленного даже под нужным углом. я стараюсь этого не допустить.

*
в марте температура воздуха поднялась до нуля и магия растворилась: ледяные горки стали рыхлыми черными склонами, воздух высох чёрствым хлебом. на остановке “дк железнодорожников” я села в холодный автобус и снова поехала в больницу.
*
трижды в день мы с собакой повторяем один и тот же маршрут: фотографирую звёзды, пока собака пытается найти рыбные кости около круглой беседки. днём мы разглядываем трещины во льду, а вечером опускаем ноги и лапы в снег поглубже и бегаем наперегонки. я рассказала подруге, что не знаю, как поддержать отца: он одновременно близко мне знаком и совершенно скрыт от понимания. она предложила показывать ему фотографии собаки. потому что я не знаю, что еще он любит. в следующие дни я много снимаю: как собака спит, сжавшись в подобие бублика, как она следит за мной, пока я готовлю блины, как её рыжая шерсть на солнце кажется медной.
*
в ответ на эти фото (или просто так — я никогда не могу до конца понять) отец присылает анимацию “с восьмым марта!”, сгенерированную искусственным интеллектом, а потом ссылку на видео. я открываю, чтобы посмотреть, но оно не проигрывается на телефоне.
*
по рассказам медсестёр, отец не любит сидеть на кровати. коллеги с работы приносят ему пиццу (слишком жирно), он с удовольствием её ест и зачем-то убегает с седьмого этажа на первый. я не спрашиваю у мамы, от обезболивающего ли это. но мне всё равно становится чуть-чуть радостнее.
*
в конце марта его выписывают, и теперь мы снова ругаемся. я ложусь на край папиного дивана, и мы смотрим документальный фильм о жизни прайда львов в саванне. я чувствую, как медленно он дышит, наблюдаю, как одеяло подымается бугром над большими легкими. мы энергично смеёмся с озвучки, будто нам правда весело. как будто то, что происходит на экране — не просто предлог побыть физически близко, не только мои не/слова к тебе, не только возвращение домой.
*
кажется, было бы проще, если бы я могла видеть только плохое. ты никогда не знаешь, как меня поддержать, куча в целом бесполезных подаренных тобой вещей рассована по углам комнаты — не знаю, куда от неё деться — не выкинуть же. мой любимый пластиковый цветочек на солнечных батарейках, кивающий влево и вправо, когда в комнату проникает свет, работает до сих пор. я где-то читаю, что людям после пятидесяти важно иметь любимое дело, и пытаюсь найти тебе хобби. тебя это раздражает. мы ссоримся из-за выступления на Евровидении, когда ты обзываешь артиста педиком. я прошу тебя быть мягче, и ты делаешь вид, что меня нет. засыпаешь прямо на нашем семейном просмотре телевизора.

в моём горле поднимается лавовая волна злости, горячей и едкой, как перегретый гороховый суп. просится вылиться, вывернуться на тебя. я знаю, что этот текст в принципе не может кончиться, ему нечем питаться, и всё равно он стоит, плотно упершись корнями мне в затылок. я начинала с грусти, и текст лился и лился, пока мне не становилось жутко. жутко или спокойно?
я знаю, что грусть перемещается из тела в тело.
я знаю, что иногда тебе тоже грустно: ты стоишь у плиты, на ней покрытый жирными разводами чайник, из-под ножа появляются мелкие кубики моркови. я помню, как хорошо ты готовишь, и чувствую аппетит. разделять с тобой пищу очень легко, очень знакомо. мы едим из одной тарелки, передавая друг другу ложку. едим мою гороховую злость, шипящую ненависть к молчанию, вопросительную темноту твоих политических взглядов, неудавшуюся карьеру швеи, отвержение заботы, напускную смелость.
я знаю
никакого дна у грусти не видно, но и другой тарелки тоже нет