«А дальше что?»:
рассказ из новой книги
Сергея Шаматульского
«Боги те, кто не проигрывают в кулачки» — сборник короткой прозы, в которой беларусский писатель Сергей Шаматульский продолжает исследовать магические и реальные пространства, чьи пейзажи одновременно ужасают и кажутся ностальгическими.
Эти пространства порождают неопределенное, мерцающее время — прошлое бывает равно будущему, но при этом не тождественно самому себе, давно умершие вдруг просыпаются в соседней комнате, детство не кончается, но при этом невозвратимо.
Про автора:

Сергей Шаматульский — беларусский писатель, редактор и графический дизайнер. Живет в Минске.
Автор книг «Они» (2016) и «Боги те, кто не проигрывают в кулачки» (2023).
Был колумнистом в журнале «Маладосць», литературным редактором и журналистом. Публиковался в журналах «Макулатура», «Литературная Беларусь», «Паміж», газете «ЛіМ».
Финалист литературной премии «Блакітны свiн»,
а также премии за лучший книжный дизайн «Анемпадыстаў».
Некоторые тексты и эссе переведены на латышский и английский языки.
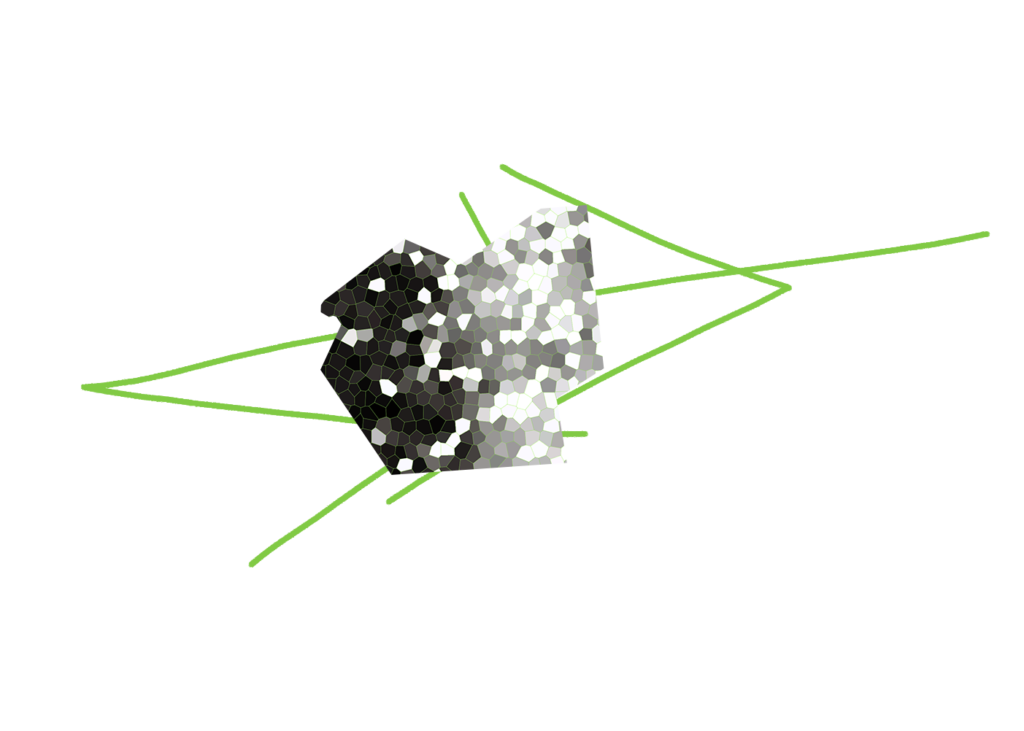
А дальше что?
Это обычно ночью бывало.
На границе реальности, между сном и явью, когда вчерашний день схлынул, а новый ещё не пришел, и Вероника, вглядываясь в тёмное, покрытое паутиной теней окно, спрашивала себя: «А что дальше?». Но, казалось, дальше уже ничего. Занавес пал. Жизнь выкатывалась в пустой зал, показывала свои сокровища: вот они, хрупкие желания да нереализованные мечты; вот они, упущенные моменты, лунные блики, обрывки слов, ловкая фраза в далёком споре — в её ладонях. Держи-ка…
И софиты гасли, и ветер бил в стёкла, и луч уносящейся машины резиновым мячиком катился по потолку, куда-то туда, где и свет, и тьма, и ненаступившее будущее, и затянутое серыми тучами прошлое, в чьём ярком калейдоскопе переливался волшебный мир детства: девочки скачут по расчерченному асфальту, солнце в зените и везде липкий пух или что-нибудь такое ещё, невесомое и пропитанное запахом сорванной земляники. Где ты, детство? Всё ушло.
Пух прибило дождём, спёртый воздух наполнил узкую комнату, разноцветное счастье лопнуло и, обнажив аляповатые декорации, обернулось страшными проволочными деревьями с грязной ватой, скомканной в пожелтевшие от времени больничные облака.
Не нужно в них рыться.
И склеивать стёклышки, раскладывая по полу разрозненные осколки, — они не подходят.
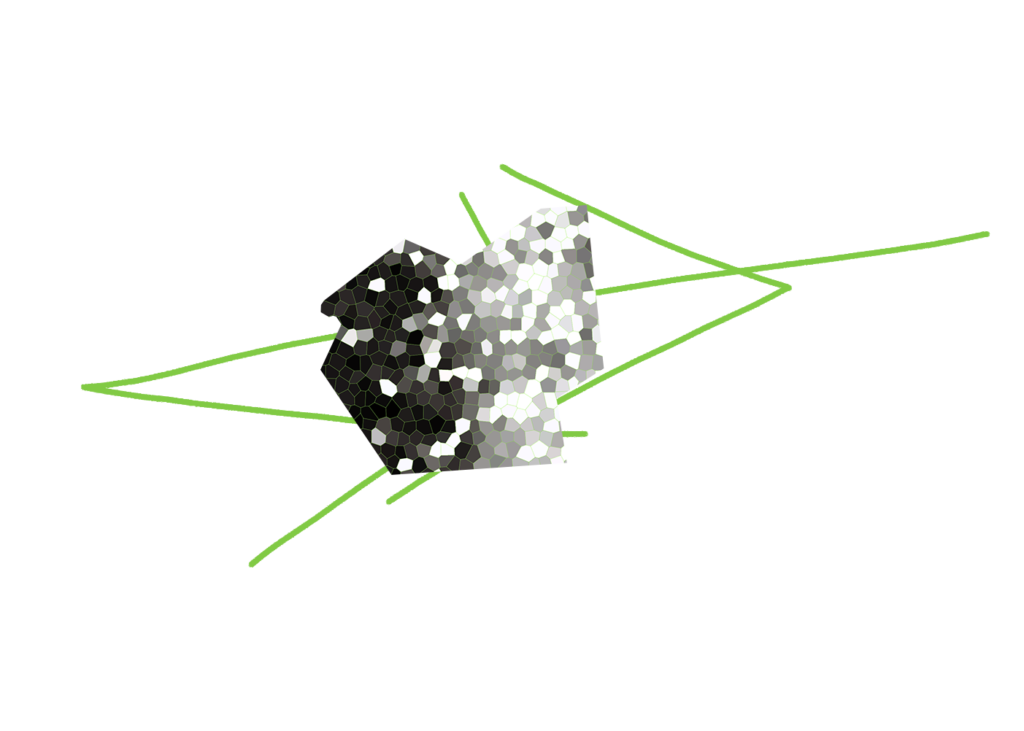
Лица стёрлись, чужие люди смотрят из изуродованного медведкой рыхлого отражения, и она на них смотрит, пока не догадываясь, что скоро переживёт здесь всех: и мать, и вычеркнутого раком отца, и бабушку, укрытую одеялом из разломанных по желобку белых таблеток, которая мучилась много лет и превратилась в сморщенную изюминку — изюминкой она её и запомнила.
Бабушку было жалко.
В институт Вероника так и не поступила. На экзамене она крутила билет в руках, путалась в формулах, долго гипнотизировала пустой листок, тщетно пытаясь найти ответ среди наскоро выхваченных школьных знаний, где физика похожа на химию, алгебра машет своими неприлично вытянутыми кривыми и пляшет отдельно, погоняя вымазанное графитом черчение или треугольную геометрию. От точки «а» в точку «б», через прямую из горчичных компрессов и пролежней к смотанным в узел жгутам и ампулам с отломанными головками — «Чтобы открыть, надо крепко взяться и дёрнуть», — но кому это здесь интересно?
Вероника вынула из туфли спрятанную на удачу монетку и ушла домой. Поставленная из жалости тройка сломала мечту, и мечтать уже не хотелось.

Устроившись на завод, она без надежды скручивала непонятные металлические приборы, а по вечерам подрабатывала сиделкой, окончательно поселившись среди вымытых в ванночках немощных стариков и их внуков:
«Жених-то у вас есть?»
«Вы посмотрите, Вероничка, вы посмотрите, он адвокат!»
«Философ, философ!» — чёрно-белый философ глядел ослеплёнными вспышкой глазами. Молчал.
Нет, замуж она не хотела. У неё был опыт, правда, там сложилась такая история — ну, что сейчас вспоминать; в конце концов ничего ведь не обещали, а открывшиеся фетровые врата брака быстро захлопнулись, лишь на секунду озарив её лицо мягким теплом призрачного уюта: чашки, расставленные на столе, кругом бегают дети, летом — море, зимой — Новый год и ёлка, и переливающиеся игрушки: зайчики, шарики, колокольчики, — ах, как хотелось игрушки. Свои она давно продала. После смерти матери она вообще продала всё, поставив на вырученные деньги три маленьких памятника и низенькую оградку с сидящими по колышкам замершими снегирьками — символом скорби.
А время шло, старики уходили, а новые больше не подсовывали ей женихов. И осень, закрученная в жёлтый платок, притянула Веронику ближе к себе и накидала ей на волосы что-то пыльное и расползающееся дорожками: белое, белое, белое.

Выгоревшая трава стояла острыми пиками, падали листья, бабушка, подхваченная дикой чугунной птичкой, кружила под люстрой и кричала какие-то грязные неразборчивые слова. Кому? О чём? Подождите, о чём!? — Не слышно. И страх сковывал укрытые одеялом ноги. И земля, разинув чёрный бесстыжий зев, казала кривые корни, и не съеденное вороной кладбищенское яйцо гнало прочь, и буквы, градом выпавшие из беззубого рта, абракадаброй падали на аккуратно разрезанные газетные прямоугольники. Смой их.
Вероника, обременённая длинным отчеством, волочит толстые ноги на кухню, ставит чайник. Тщательно пережёвывает размоченные сухарики, рассматривает сквозь монетки толстянки соты домов, витрину продуктового магазина, потом сморкается, кашляет. Пыхтя стягивает чулки, растопыренными пальцами взбивает подушку, ложится в коронованную стёганым одеялом постель, долго не может уснуть и наконец проваливается в липкий кошмар — резиновые клешни капельниц, скрученные шеи ампул, — вскрикивает и долго крестится, прислушиваясь, как за стенкой ворочаются разбуженные родители.
Купить книгу можно здесь. Электронная книга пока готовится к выпуску.